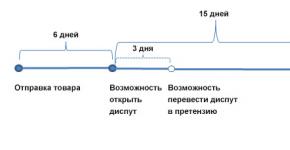Божество с петушиной головой и змеиными ногами. Места силы. Шаманские экскурсы. Юнг. Наставления мертвым (Абраксас). Юнг о хранителе вселенной
Продолжение. Начало Предыдущее
Через день, 31 января 1916 года, вновь появились мертвые: «Желаем знать о Боге. Где Бог? Бог мертв?» И Филемон начал второе наставление:
«Бог не мертв, он жив так же, как и исстари. Бог, он — Творение, нечто определенное, а посему отличен от Плеромы. Бог — свойство Плеромы, ибо все, что сказал я о Плероме, действительно и для него.
Он отличается, однако, от Творения через то, что многократно темней и неопределимей, чем Творение. Он менее отличим, чем Творение, ибо в основании его сущности пребывает сущая Полнота, и в той лишь мере определим и отличим, в коей он Творение, но и в той же мере он — проявление сущей Полноты Плеромы».

В мы заметили, что термины Филемона «отличимость» и «неотличимость» соответствуют тому, что Юнг понимал под сознанием и бессознательным. Во втором наставлении маг говорит об отличимости и неотличимости применительно к богам. Вот он продолжает: «Все, что не отличено нами, низвергается в Плерому и упраздняется купно со своим противоположением. Оттого-то, когда не отличаем мы Бога, упраздняется для нас сущая Полнота». И ее противоположность Пустота тоже упраздняется. Но что она такое? «Истинная Пустота есть сущность Дьявола. Бог и Дьявол суть первые проявления Ничто, каковое именуем Плеромою». В Плероме нет ни того, ни другого. «Не таково Творение. В том отношении, в коем Бог и Дьявол суть Творения, они не упраздняют себя, но противостоят друг другу как сущие противоположения». Но, как мы знаем, «сущие противоположения» не только противостоят друг другу, а и составляют парные единства. Говоря о божественном, Филемон формулирует это так: «Все, что отличенность изымает из Плеромы, являет собой парные противоположения, посему Богу всегда причастен Дьявол».
Ох, чует вещая моя селезенка, что не всем это все сходу будет понятно. Что же делать? Помню, лет сорок назад хакасский шаман Аполлон (в тех местах это не такое уж редкое имя, а поскольку он был из народности бельтыров, то и называл себя шутя Аполлон Бельтырский) объяснял мне все эти тонкости, рисуя круги на прибрежном песке Абакана. Я это потом обобщил, нашел формализмы, позволившие построить общую теорию парадокса. Здесь не место ее излагать. Ограничусь только наглядными схемами, с помощью которых можно пояснять то, о чем говорит Филемон.

Представим себе две граничащих сферы (рис.1). Границу для простоты можно свести к точке Х , в которой сфера А соприкасается со сферой В . Пограничная точка Х , очевидно, принадлежит одновременно и сфере А , и сфере В . Эта пространственная аналогия позволяет прояснить взаимоотношения бинарных оппозиций, о которых говорил Филемон: Добра и Зла, Красоты и Уродства, Полноты и Пустоты, Сущего и Несущего, А и В ... Ясно, что в точке Х эти противоположности тождественны. То есть в ней Полнота — есть Пустота, Добро — есть Зло, Красота — есть Уродство, Истина — есть Ложь и так далее (как в романе Оруэлла «1984»).
Ситуации, изображенные на рисунке 1, часто встречаются в жизни и порой отражаются в искусстве. Например, в точке контакта Х , принадлежащей одновременно сферам А и В , может помещаться какой-нибудь объект, создающий конфликт интересов, соприкасающихся сторон. Или, скажем, в историях про разведчиков в точке Х иногда действует двойной агент, работающий одновременно на обе стороны: одна дезинформирует другую через раскрытого агента, а другая пытается в ответ вести свою игру через него же. Все это вполне очевидные вещи. Но бывают пограничные ситуации, где ясности нет. И не может быть в принципе.

В предыдущем экскурсе я цитировал фрагмент книги «О природе психе», в котором Юнг говорит об околосознательной сфере психики (пограничье сознания и бессознательного). Юнг назвал положение в этой сфере парадоксальным, хотя, похоже, употребил слово «парадокс» в обычном житейском смысле (некое противоречие вообще). А между тем любая граница несет в себе возможность настоящего парадокса — типа, парадоксов теории множеств или парадокса «я лгу» (если это истина, то это ложь, а если — ложь, то — истина). При помощи схемы, рассмотренной выше (рис.1), устройство такого парадокса отобразить невозможно, и, если я остановился на ней, то лишь для того, чтобы на ее фоне показать, что Филемон учит вещам куда более нетривиальным.
Вот он как раз переходит к интересному случаю: «Бог и Дьявол отличимы через полноту и пустоту, созидание и разрушение. Общее для обоих сущее . Сущее их связывает. Потому сущее возвышается над обоими, и оно есть Бог над Богом, ибо оно соединяет Полноту и Пустоту в их сущем». Тут речь уже не о простом соприкосновении двух сфер, но — об их соприкосновении в каком-то ином измерении («в их сущем»). Чтобы представить этот ход мысли Филемона графически, нам придется изначально определить (сконструировать) точку Х как некую особую пограничную точку, не принадлежащую ни сфере А , ни сфере В .

В этом случае картинка будет выглядеть несколько иначе (рис.2): точка Х , в которой соприкасаются сферы А и В , окажется не принадлежащей ни сфере А , ни сфере В (по определению), однако она может принадлежать системе АВ (если мы ее соответствующим образом определим), а значит — будет принадлежать и сфере А , и сфере В , входящим в систему АВ . Тогда получается, что точка Х в ситуации соприкосновения сфер А и В (в системе АВ ) принадлежит и одновременно не принадлежит сфере А . И точно также принадлежит и не принадлежит сфере В . То есть в системе АВ , которая сконструирована так, что точка Х не принадлежит ни одной из подсистем А и В , но при этом является системообразующим звеном АВ , — положение точки Х оказывается парадоксальным.
Итак, следуя мысли Филемона о Боге («сущем»), «возвышающемся» над богом и дьяволом, мы нарисовали схему, показывающую антиномичную природу такого Бога. Эта схема позволяет увидеть, что в конструкции, которую предложил старый маг, точка Х остается точкой соприкосновения двух сторон, но при этом не принадлежит ни одной из них, хотя и принадлежит системе в целом. Иными словами: точка Х на рисунке 2 является системообразующим элементом новой системы («сущего»), отличающейся от конструкции, изображенной на рисунке 1, где стороны просто соприкасаются (взаимодействуют) друг с другом в точке Х . Новая система изначально построена как парадокс, предполагающий двусмыслицу. На практике это будет означать, что сконструированное таким способом парадоксальное устройство нельзя увидеть ни из одной из двух взаимодействующих в точке Х сфер А и В , но всю систему можно увидеть из некоей привилегированной точки (Х ), в которой пребывает тот, кого Филемон назвал «Богом над Богом».

Кому-то такое построение покажется искусственным и отвлеченным. Однако ситуации, сконструированные таким способом, нередко встречаются в жизни. Известный пример: провокатор Евно Азеф (он, кстати, сидел в немецкой тюрьме, когда Юнг записывал поучения Филемона). В России Азеф руководил боевой организаций эсеров и при этом не только сдавал полиции своих боевиков, но и при помощи полиции организовывал новые боевые группы и проводил теракты. Он что, работал на полицию? Нет. На эсеров? Тоже нет. Но, тем не менее, он работал и на тех, и на других. Одновременно работал и не работал. И на полицию, и на революцию. Строго говоря, он работал только на себя, будучи точкой соединения двух сфер (полиции и революции) в единую систему (полиция-революция), устройство которой знал только сам, ибо — сам ее создал. Эта единая система и была парадоксальной конструкцией, в рамках которой происходили принципиально двусмысленные события, истинный смысл которых не был виден ни со стороны властей, ни со стороны революционеров. Кстати, и управляемый хаос, который мы наблюдаем сегодня, тоже создает некто, кого невозможно увидеть, если не переместиться в его парадоксальную реальность.

Но Филемон как раз видит некоего Бога над Богом и Дьяволом. И, называя этого Бога «присущим ему именем АБРАКСАС», утверждает: «Он еще более неопределим, чем Бог и Дьявол». Ну, конечно, «более неопределим», рисунок 2 это четко демонстрирует. И делает наглядной парадоксальную природу этой неопределимости. У Филемона нет волшебной картинки, объясняющей (на пальцах) устройство любого семантического парадокса, и потому ему приходится довольствоваться не слишком систематичным описанием Абраксаса: «Дабы отличить от него Бога, мы именуем Бога ГЕЛИОС либо Солнце. Абраксас — сущее, ничто ему не противостоит, кроме того, в чем нет сути… Абраксас возвышен над Солнцем и возвышен над Дьяволом. Он есть невероятное вероятное, несущее сущее. Когда б у Плеромы была сущность, Абраксас был бы ее проявлением».
Таковы проявления парадоксальной природы Бога над Богом и Дьяволом . В черновике, написанном 16 января 1916 года («Черная книга 5»), еще нет четкого определения Абраксаса (там, впрочем, нет ни речей Филемона, ни мертвецов, так что будем считать, что маг каким-то гипнозом внушил этот текст Юнгу), но и в черновом варианте антиномичность этого бога вполне прочитывается: «Он есть форма и формирование, и столь же — материя и сила, посему он превыше всех светлых и темных Богов. Он раздирает души и толкает их к порождению. Он есть творец и творение… Чем более ты освобождаешь себя от него, тем более ты приближаешь смерть, ведь он — жизнь вселенной. Но он также вселенская смерть».

В этом Абраксасе нетрудно узнать бога, искушавшего праведного Иова. Ради эксперимента бог Иова отдает праведника в руки Сатаны, и тот (Дьявол, бог низшего уровня) проводит беднягу через кошмарные испытания. Ближе к старости Юнг напишет книгу «Ответ Иову» (1952) и скажет в ней (в соответствии с христианской традицией назвав Абраксаса еврейским именем Яхве): Иов «не заблуждается насчет единства Бога, а хорошо понимает: Бог находится в противоречии с самим собой, и притом столь полно, что он, Иов, уверен в возможности найти в нем помощника и заступника против него же самого. В Яхве он ясно видит зло, но также ясно видит он в нем и добро …он — и то, и другое, гонитель и помощник, в одном лице, причем один аспект явствует не меньше, чем другой. Яхве — не раскол, а антиномия, тотальная внутренняя противоречивость, выступающая необходимым условием его чудовищного динамизма, всемогущества и всеведения».

Мы еще как-нибудь заглянем в «Ответ Иову», книгу, представляющую собой психоанализ бога в его эволюции от бессознательного к сознанию: «Внутренняя нестабильность Яхве является предпосылкой как творения мира, так и того плероматического действа, трагический хор которого составляет человечество. Разбирательство с творением ведет к внутренним переменам в самом Творце»... Но сейчас пора уже вернуться к наставлению об Абраксасе, которое Филемон заканчивает так: «Хоть он и есть само сущее, но, однако, ничего определенно сущего, но лишь сущее вообще. Он несуще сущ, поскольку не имеет определенного сущего. Он и Творение, ибо он отличим от Плеромы. Солнце определенно сущее, как и Дьявол, оттого они нам представляются более сущим, чем неопределимый Абраксас. Он есть Сила, Длительность, Переменчивость».

Услыхав это, мертвые возмутились («ибо они были христиане») и отступили во тьму. Юнг же сказал: «Сжалься над нами, мудрейший! Ты отнимаешь у людей богов, которым можно молиться». На что Филемон возражает в том смысле, что эти мертвые сами, мол, отвергли христианские верования (не нашли в Иерусалиме того, что искали), так чего ж говорить им о боге, в которого они могли бы верить и которому могли бы молиться. Но теперь мир вступил в месяц великого года (речь о наступлении эры Водолея, см. ), «когда можно верить только в то, что знаешь. Это довольно трудно, но это также лекарство от долгой болезни, которая появилась из-за того, что люди верили в то, чего не знали. Я учу их Богу, которого мы — и я, и они — знаем, не отдавая себе отчета о нем, Богу, в которого не верят и которому не молятся, но которого знают».

Прежде чем повествовать дальше о боге, которого мы знаем, не отдавая себе отчета о нем (а тут явно витает смысл: «знаем, не сознавая, не ведая»), надо заметить, что тот Абраксас, о котором в начальную пору эры Рыб говорили гностики, отнюдь не идентичен тому Абраксасу, которого знает Филемон. Абраксас гностиков — это олицетворение времени и пространства, глава . Трудно сказать, насколько можно доверять сведениям, дошедшим до нас через христианских критиков гностицизма, но, говорят, Василид (которому авторство «Семи наставлений мертвым») придавал имени Абраксаса какое-то прямо каббалистическое значение. В частности, считал, что сумма числовых отображений семи греческих букв его имени дает 365, что соответствует количеству дней в году и числу Эонов.

Эта абракадабра и есть то, что Василид мог знать об Абраксасе. А тот Абраксас, которого знает Филемон и которому учит мертвых, — божество наступающей эры Водолея. Обнажив его парадоксальную структуру, я, пожалуй, сказал о нем гораздо больше, чем можно было сказать (надеюсь, это не выйдет мне боком). Что же касается Юнга, то вопросы, которые он задает Филемону, показывают, что аналитик еще не совсем понимает, к чему клонит старый маг. Поймет кое-что, когда тот начнет наставлять мертвецов в третий раз. Уже на следующую ночь они явятся и возгласят: «Говори нам далее о Верховном Боге». И Филемон скажет: «Абраксас есть Бог, коего мудрено распознать. Он имеет наибольшую часть, ибо она незрима для человека. От Солнца зрит человек summum bоnum , то есть высшее благо, от Дьявола infinum malum , то есть беспредельное зло, от Абраксаса же непреодолимую ни в коей мере жизнь , каковая есть мать доброго и дурного».

Мы из личного опыта знаем, что жизнь — сплошной парадокс, нераздельность горя и счастья, тотальная двусмыслица. А теперь вот еще выясняется, что это потому, что жизнь — проекция Абраксаса. Филемон показывает это со всей возможной четкостью:
«Абраксас есть Солнце и наравне заглатывающее вековечное жерло Пустоты, все умаляющей и расчленяющей, жерло Дьявола.
Власть Абраксаса двукратна. Но вы не зрите ее, ибо в ваших глазах уравнивается противуположная направленность той власти.
Что говорит Бог-Солнце, есть жизнь,
что говорит Дьявол, есть Смерть.
Абраксас же говорит слово досточтенное и проклятое, что есть равно жизнь и смерть.
Абраксас творит истину и ложь, добро и зло, свет и тьму в том же слове и в том же деянии».

Ясно, что все эти (и другие) противоречия вытекают из того, что Абраксас — божество иного порядка, чем те сущности, которые человек способен ухватить непосредственно: Добро и Зло, то и это, А и В . Поскольку Абраксас объединяет противоположности, есть искушение счесть его богом границы, порога, отличий (что-нибудь вроде Термина). Но это было бы слишком поверхностно, а значит — не верно. Абраксас обитает в ином измерении, парадоксальном плане, где нет ни границ, ни того, что они разделяют. Он сам из себя порождает любые границы, порождая то, что граничит. И потому его нельзя понять, схватить мыслью. Но все же его можно знать. И хотя это знание полностью апофатично, выводы из него полезны для повседневной практики. Вот, в частности, что изрекает Филемон об этом боге беспредела:
«Он есть светлейший свет дня и глубочайшая ночь безумства.
Его зреть — слепота.
Его познать — недуг.
Ему молиться — смерть.
Его страшиться — мудрость.
Ему не противиться — спасение.
Бог пребывает при солнце. Дьявол пребывает при ночи. Что Бог рождает из света, Дьявол утаскивает в ночь. Абраксас же мир, становление и преходящесть мира».

Не стану пересказывать все, что сообщил маг об Абраксасе, а перейду сразу к тому, о чем говорили Юнг с Филемоном после того, как мертвые, услыхав последние слова наставления о парадоксальном боге («он есть обманное сущее»), с воплями удалились («ибо были несовершенны»). Юнг: «Как, о мой отец, должен я понимать этого Бога?» Филемон: «Сын мой, почему ты хочешь его понять? Этого Бога надо знать, а не понимать. Если ты понимаешь его, то можешь сказать, что он — то или это и — то, а не это. Так ты держишь его в руке, и потому твоя рука должна его выбросить. Бог, которого я знаю, есть то и это и в то же время — иное то и иное это. Потому никто не может понять сего Бога, но его можно знать, и поэтому я говорю и учу о нем».
Юнга интересует, почему Филемон называет непостижимые противоречия природы богом? Ответ: «Как мне называть его иначе? Если бы непреодолимая сущность событий во вселенной и в сердцах людей была законом, я бы назвал ее законом. Но это и не закон, а случай, сумбур, оплошность, ошибка, глупость, неточность, безумие, беззаконие. Посему я не могу назвать это законом… Я знаю, что человеческий язык всегда называл материнское лоно непостижимого Богом. Истинно, этот Бог есть, и его нет, ибо из бытия и небытия явилось все, что было, есть и будет».

О, гегельянством пахнуло: абстрагируемся от бытия и получаем ничто, абстрагируемся от ничто и получаем опять бытие (так творил Бог), потом опять и опять — от бытия, от ничто… Это мерцание Гегель назвал становлением. Но Филемон нисколько не гегельянец. Вот что он скажет о том, что родится из бытия и небытия, в своем четвертом наставлении (мертвые на сей раз пожелали узнать «о Богах и Дьяволах»):
«Бог-Солнце есть высшее добро. Дьявол есть противное ему, вот имеете двух богов.
Но существует много высокого добра и много тягостного зла, а потому существует два богодьявола, один именем пылающее
, другой же — растущее
».

Нам уже ясно, что «два богодьявола» — существа отнюдь не из той непостижимой зоны, где обитает Абраксас, произвольно создающий границы, которые и существуют, и не существуют, поскольку их еще нет, но они уже есть (рисунок 2). Богодьяволы обитают там, где вполне различимы границы и пограничные точки (рисунок 1). «Пылающее» и «растущее» — это то, что возникает на границе божественного и дьявольского, то, что обладает качествами того и другого: «Доброе с дурным едины в пламени. Доброе с дурным едины в произрастаньи древа». Однако между этими двумя богодьяволами Филемон видит разницу: «Пылающее есть Эрос в образе пламени. Он сияет, меж тем как пожирает. Растущее есть древо жизни, оно зеленеет, меж тем как, вырастая, скапливает живое вещество».
Ну и понятно, что там, где более одного бога, — богов много: «Подобно сонмам звезд, безмерно число богов и дьяволов». Естественно, Филемон мыслит эту множественную божественность именно как сочетание противоположностей (предполагающее пограничье): «Всякая звезда есть бог, и всякое пространство, кое полнит звезда, есть дьявол». Но главных богов маг насчитывает ровно четыре («ибо четыре является числом измерений мира»): первый из них Бог-Солнце, второй — Эрос, третий — Древо жизни, четвертый — Дьявол.

Впрочем, побоку всю эту теологию, поскольку она абсолютно архетипична и вытекает из того, что мы обсуждали выше. Послушаем лучше, о чем говорили доктор и маг после того, как мертвые с хохотом и издевками удалились. «Я считаю, ты ошибаешься, — сказал Юнг, имея в виду многобожие. — Похоже, ты учишь чистому суеверию». На что учитель опять: кто отверг единого бога, пусть слушает о многообразной божественности. А дальше — длинная инвектива о преступлениях этих мертвых: под эгидой своего доброго бога («слушателя молитв») они рубили священные деревья, убивали священных животных, вырывали священные руды из недр… Они понесли за это наказание? «Нет, они именовали, взвешивали, подсчитывали и распределяли вещи. Они делали, что вздумается... Но пришло время вещам говорить... И вещи восстанут, и сосчитают, и взвесят, и распределят, и пожрут миллионы людей».

Абраксас (гностицизм)
Абраксас
Абрасакс или Абраксас или Абракас - гностический термин. Сумма цифровых значений греческих букв , составляющих слово, равна числу 365. В системе гностика Василида Абрасакс - глава (архонт) низших эонов (эманаций Божества), создавших 365 небес. В дальнейшей оккультной традиции Абрасакс представлялся как египетский бог, демон, дуалистическое божество, изображался в образе петуха .
Абраксас - мистическое слово, неправильно считается египетским, происхождения скорее персидского и в таком случае заключает в себе все буквы, употребляемые в пельви для численного обозначения и в то же время самые первые буквы азбуки этого языка. Введено в употребление гностиком Василидом, последователи которого придавали магическое значение камням, на которых было вырезано это слово и, кроме того, еще фигура с человеческим туловищем, человеческими руками, петушьей головой и змеями вместо ног; в правой руке ее плеть, в левой круг или венок с двойным крестом внутри. Подобного рода камни найдены в Азии, Египте, частью в Испании, куда они вместе с василидовым учением занесены присциллианами, а затем приняты были всеми магическими и алхимическими сектами и в Средние века получили широкое распространение в качестве амулетов . Мистическая фигура видоизменялась самым разнообразным образом и заменялась различными изображениями, языческими и др., уже ничего общего с гностицизмом не имеющими. Ср. Bellermann «Ueber die Gemmen der Alte n mit dem Abraxasbilde» (3 вып. Берд. 1817-19"; Barzilai «Gli Adraxas» (Триест, 1873).
В культуре
Wikimedia Foundation . 2010 .
Abracax вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса
Abrasax вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса
Abraxas вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса вариант латинского написания имени Абраксаса
Άβράξας вариант греческого написания имени Абраксаса вариант греческого написания имени Абраксаса вариант греческого написания имени Абраксаса вариант греческого написания имени Абраксаса
Άβρασάξ вариант греческого написания имени Абраксаса вариант греческого написания имени Абраксаса вариант греческого написания имени Абраксаса вариант греческого написания имени Абраксаса вариант греческого написания имени Абраксаса
Абрасакс вариант написания имени Абраксаса вариант написания имени Абраксаса вариант написания имени Абраксаса вариант написания имени Абраксаса
"Согласно доктрине василидиан (одной из гностических сект - последователей Василида, Сирия, II век), Абраксас - верховный глава небес и эонов, как бы совмещающий в своём лице их полноту. В системе Василида сумма числовых значений входящих в слово "Абраксас " семи греческих букв (1 + + 2 + 100 + 1 + 60 + 1 + 200) даёт 365 - число дней в году ("целокупность мирового времени"), а также число небес ("целокупность мирового пространства") и соответствующих небесам эонов ("целокупность духовного мира"). "Космический" характер семёрки как общего числа букв подчеркивает придававшийся имени Абраксаса смысл некоего исчерпания моментов бытия, окончательной суммарности" .
Отцы церкви боролись с ересью гневными отповедями и едкими насмешками. Святой Епифаний язвительно замечал, что ересиархи пытаются "действовать на воображение неопытных ужасными именованиями варварским составлением сих наименований", - он имел в виду и звание Абраксаса .
Во II веке христианская церковь победила ереси, но в средние века Абраксас снова стал довольно известен: его изображение как талисман было принято алхимиками, которые носили на груди медальоны с человеко-петухозмеем.
"Afterwards broke out the heretic Basilides. He affirms that there is a supreme Deity, by name Abraxas , by whom was created Mind, which in Greek he calls Nous; that thence sprang the Word; that of Him issued Providence, Virtue, and Wisdom; that out of these subsequently were made Principalities, powers, and Angels ; that there ensued infinite issues and processions of angels ; that by these angels 365 heavens were formed, and the world, in honor of Abraxas , whose name, if computed, has in itself this number. Now, among the last of the angels , those who made this world, he places the God of the Jews latest, that is, the God of the Law and of the Prophets, whom he denies to be a God, but affirms to be an angel . To him, he says, was allotted the seed of Abraham, and accordingly he it was who transferred the sons of Israel from the land of Egypt into the land of Canaan; affirming him to be turbulent above the other angels , and accordingly given to the frequent arousing of seditions and wars, yes, and the shedding of human blood. Christ, moreover, he affirms to have been sent, not by this maker of the world, but by the above-named Abraxas ; and to have come in a phantasm, and been destitute of the substance of flesh: that it was not He who suffered among the Jews, but that Simon was crucified in His stead: whence, again, there must be no believing on him who was crucified, lest one confess to having believed on Simon. Martyrdoms, he says, are not to be endured. The resurrection of the flesh he strenuously impugns, affirming that salvation has not been promised to bodies."
Carl Jung, "The Seven Sermons to the Dead" (Карл Юнг, "Семь проповедей к мёртвым")
В рассказе Томаса Мура "Утопия", одноименный рассказу остров однажды упоминается под названием "Абраксас ".
Упоминание бога Абраксаса встречается в следующем отрывке рассказа Германа Гессе "Демиан":
"The bird is struggling out of the egg. The egg is the world. Whoever wants to be born must first destroy a world. The bird is flying to God. The name of the God is called Abraxas ."
Hermann Hesse, "Demian" (Герман Гессе, "Демиан")
In Hugo Pratt"s story "Favola di Venezia - Sirat Al-Bunduqiyyah" ("Fable of Venice"), Corto Maltese encounters several Abraxas in Venice.
Abraxas is a fictional cosmic entity from Marvel Comics that was introduced in "Galactus: The Devourer".