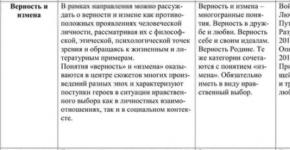Анализ произведения теркин на том свете твардовский. Александр Твардовский — Теркин на том свете: Стих. Сочинения по темам
Параллельно с «За далью – даль» Твардовский работает над сатирической поэмой-сказкой «Теркин на том свете» (1954-1963), изобразившей «косность, бюрократизм, формализм» нашей жизни. По словам автора, «поэма «Теркин на том свете» не является продолжением «Василия Теркина», а лишь обращается к образу героя «Книги про бойца» для решения особых задач сатирико-публицистического жанра» (5, 143).
В основу произведения Твардовский положил условно-фантастический сюжет. Герой его поэмы военных лет, живой и не унывающий ни при каких обстоятельствах Василий Теркин оказывается теперь в мире мертвых, призрачном царстве теней. Подвергается осмеянию все враждебное человеку, несовместимое с живой жизнью. Вся обстановка фантастических учреждений на «том свете» подчеркивает бездушие, бесчеловечность, лицемерие и фальшь, произрастающие в условиях тоталитарного режима, административно-командной системы.
Вначале, попав в «загробное царство», очень уж напоминающее нашу земную реальность целым рядом узнаваемых бытовых деталей, Теркин вообще не различает людей. С ним разговаривают, на него смотрят казенные и безликие канцелярские, бюрократические «столы» («Учетный стол», «Стол Проверки», «Стол Медсанобработки» и пр.), лишенные даже малейшего признака участия и понимания. И в дальнейшем перед ним вереницей проходят мертвецы – «с виду как бы люди», под стать которым вся структура «загробного царства»: «Система», «Сеть», «Органы» и их производные – «Комитет по делам
Перестройки Вечной», «Преисподнее бюро», «Гробгазета» и т.п.
Перед нами возникает целый реестр мнимых, абсурдных, лишенных содержания предметов и явлений: «душ безводный», «табак без дыма», «паек загробный» («Обозначено в меню,
А в натуре нету»)... Показательны характеристики:,Кандидат потусторонних
Или доктор прах-наук», «Надпись: «Пламенный оратор» – /И мочалка изо рта». Через все это царство мертвых и бездушных солдата ведет «сила жизни». В герое Твардовского, символизирующем жизненные силы народа, попавшем в столь необычную обстановку и подвергшемся нелегким испытаниям, возобладали присущие ему живые человеческие качества, и он возвращается в этот мир, чтобы бороться за правду.
Сам Твардовский вел непримиримую борьбу с наиболее мрачным, мертвящим наследием сталинщины, с духом слепого подчинения, косности и доведенного до абсурда бюрократизма. И делал это с позиций утверждения жизни, правды, человечности, высокого нравственного идеала. В сочетании фантастического сюжета и реалистически-бытовых деталей в изображении загробного мира реализовался творческий принцип автора: «С доброй выдумкою рядом
Правда в целости жива...»
Твардовский без глянца Фокин Павел Евгеньевич
«Тёркин на том свете»
«Тёркин на том свете»
Из дневника:
«7.XI.1961
‹…› Совершенно ясно, что „Тёркин на том свете“ должен явиться в свет, появиться, быть напечатанным. „Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым“. Это недавнее, „внутреннее“ наше прошлое, к которому вновь и с таким глубоким выворотом обратились мы в ходе съезда, – что же это, как не „преисподняя“. И показ ее в „снятом“, победительном плане – просто необходим. Данной вещи может помешать только само это прошлое, предубеждение, „магические слова“, повиснувшие когда-то (54) в воздухе и не развеянные еще. – Попытаемся. И пусть в этом показе „прошлого“ будет в такой же мере и настоящее, в какой они смыкаются в действительности». ‹…›
12. ХII.1961
Памятным моментом этого захода явилась ночь, кажется с 26 на 27 ноября, которая в календаре обозначена неразборчивой карандашной записью на обороте воскресного (26) листка „Ночь озарения“. Я вдруг проснулся, протрезвев и в полном сознании (это не было, по-видимому, полное трезвое сознание, „верховная трезвость разума“). Оказывается, я уже давно лежал и спал-не-спал, но в легком полубреду обдумывал, как я буду доделывать „Т[еркина] на том св[ете]“, которого в Малеевке даже не раскрыл, чтобы перечесть (как не сделал этого до сих пор, чего-то боясь, чего-то избегая – не полной ли ясности, что ничего уже сделать нельзя или не смогу?).
Толком не могу воспроизвести сейчас этот „план“, но осталось одно, что я, мол, должен подключиться к этой новогодней хорейческой однолинейной истории еще и ямбом, вторым из наиболее разработанных и освоенных мною размеров – для отступлений, ретроспекции и т. п. И втоптать сюда все – и „культ“, и послекультовские времена, и колхозные, и литературные, и международные дела. И так мне было ясно, что это будет органично и что все это, собственно, начиная с „Муравии“, у меня подготовлено, пододвинуто для решения этой увенчивающей все мои стихотворные вещи задачи, что я утром начал это рассказывать Маше, хвастаясь, что все доныне написанное мною – только „крыльцо“ (по Гоголю) к тому, что должен именно теперь возвести „на базе“ „Т[еркина] на т[ом] св[ете]“, и что мне ничего не страшно и не стыдно, и я знаю, что мне делать, еду в Малеевку, сажусь за стол и т. д. При этом я выпросил у нее „поправку“ и… задул дальше, т. е. не задул, а пошел „тянуть проволоку“, помаленьку освобождаясь от этого просветленно-восторженного состояния и подумывая уже, что это, м. б., что-то сходное с переживаниями героя чеховского рассказа „Черный монах“. Потом я обмелел, притих, перетерпел свой срок ‹…›, и на меня обрушился весь подпор дел: нечитаных рукописей, неотложных дел, и я постепенно вошел в норму, а Маша съездила в М[алеев]ку за вещами. Но прочесть „Тёркина на т[ом] св[ете]“ до сих пор не решаюсь, что-то еще не дает мне этой свободы, скорее всего, полное отсутствие „запаса покоя“.
Сильнейшее впечатление последних дней – рукопись А. Рязанского (Солонжицына), с которым встречусь сегодня. И оно тоже обращает меня к „Т[еркину] на т[ом] св[ете]“. ‹…›
7. IV.1962
Вчерне-вчерне, но поставил точку под старой концовкой „Жить тебе еще сто лет“, закончив прохождение по листам прошлого года. Не только перечитать сейчас же, но даже мысленно поднять все от начала до конца что-то мешает, – должно быть – страх, что там провалы, пустоты, длинноты, скороговорка, повторения, беканье-меканье и т. д. и т. п.
Но все же не беда. На худой конец – перепишу в тетрадочку, для себя, не будучи обязанным возобновлять надоевшие, отжившие места – и то дело. М. б., лучше всего отвлечься сейчас тем, другим – не этим, не быть прикованным к этой тачке. ‹…›
20. IV.1962
С утра вдруг стало опять казаться, что „середка“ не годится, выпадает из тёркинского стиля и т. п., и что вообще все это дело обреченное. Заставил себя все же прописать еще раз эту „середку“ – нет, можно, пожалуй, „бюрократ“ примыкает уже к бюрократизму, с которым Тёркин сталкивается по ходу дела, и т. д. Хотя продолжает казаться, что заново я бы уже не писал так. ‹…›
27. VIII.1962
Подвигалось дело медленно, со страшной тратой сил на то, что потом отпадало решительно, с топтаньем на месте, с удручающей неотвязностью какого-либо словечка или оборота, который, глядишь, вовсе и не обязателен, с уклонениями в сторону, с излишеством детализации, сухостью словаря, надоедностью вводных и т. п.
Для автопародии:
Будь здоров, как говорится,
До свиданья, так сказать…
Но продвигаюсь, чувствую, продвигаюсь, откатываясь порой назад в смятенье и безнадежность и все же возвращаясь и направляясь к некоему берегу, как тот буй, что я выловил в море.
Не в первый раз я один на один с неизвестностью, неподсказанностью и незаказанностью темы, но вряд ли когда в такой мере, как сейчас. Один на один с ее неправомочностью в понятиях „кругов“, с ее незабытой компрометацией и с тем, что я могу огорчить даже „благожелателей“ этой темы, которые знают первоначальное ее решение, против которого все может казаться чем-то уже не тем. Однако я бы уже ни за что не напечатал бы не только первый, но и последний машинописный текст».
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«25.ХII.1962
На квартире у Саца на Арбате Твардовский впервые читал нам обновленного „Тёркина на том свете“. „Еще что-то доделывать буду, но поле обежал“, – сказал Александр Трифонович. ‹…›
Александр Трифонович рассказывал, что родилась поэма из главки прежнего, „военного Тёркина“, где появлялась Смерть. Когда в 54-м году эту поэму осудили, он не бросил работать над ней, занимался до осени 1956 года. Потом Венгрия – и опять отложил. Возвратился к ней в 61-м году. „Чувствую сам, стало гуще в середке“».
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«5.ХII.1962. Пицунда
Начал монтировать общий план, смыкая вставки (гл. образом, о двух тех светах). Идет, набегают новые строчки, образуются связки, переходы. Теперь уж, действительно, задача – подвести все под одну крышу, и чтобы середина не провисала. О двух тех светах – это или весьма хорошо, или абсолютно невозможно. Но, как вспомню герценовские слова (откуда?) о том, что если явление, понятие, личность в своем величии не допускает возможности улыбки, шутки по своему поводу, то тут что-то не так. Ничего, нужно только все время на слух выверять – не дешевка ли. Но мне было так приятно все это переписывать, подключая к машинописным страницам, – это надежная примета. ‹…›
13. ХII.1962. Пицунда
Все эти дни, как узнал, что 17.ХII. встреча с Президиумом, гоню, гоню, сшиваю на ходу, вставляю строфы, выбрасываю, только бы „поле оббежать“. Миновал уже самое трудное – „середину“, на которой печать „прежнего“ „Т[еркина] на том свете“ все же остается, хотя многое подтянулось и подстроилось („домино“ и „заседание“) в более энергичный ряд.
Так ли, сяк – на машинку есть что сдавать, а там еще работать и работать, доводить, наращивать, отчищать. Все же это – как будто курицу, уже однажды сваренную, остывшую, вновь и вновь разогревать, варить, приправлять – уже от той птицы ничего почти не осталось. Не дай бог утвердиться в таком сравнении. Нет, в работе есть движение, она далеко позади оставила первые варианты, – все сложнее, глубже, острее (порой до немыслимости опубликования). ‹…›
30. I.1963. Карачарово
Добежал-таки, кажется, до конца, какой он ни есть. И хотя хорошему настроению, которое держится у меня все эти дни, доверять вполне нельзя, все же преодоление того уже почти отвращения к этой моей много раз возобновляемой работе и ‹почти› безнадежности – кое-что».
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«5.VII.1963
Сегодня Александр Трифонович звонил В. С. Лебедеву, чтобы сговориться с ним и передать Хрущеву рукопись поэмы. Кто-то усомнился, удачен ли момент. „По-моему, не шутя, сейчас для этого самое подходящее время, – отвечал Твардовский. – После Пленума важно показать, что литература жива. Я убежден, что «Тёркина…» напечатают“. ‹…›
8. VII.1963
Александр Трифонович разговаривал с В. С. Лебедевым о „Тёркине на том свете“, рукопись которого прежде передал ему.
Лебедев : Я убежден, что это будет напечатано. Но, конечно, вещь трудная. Все ли правильно поймут?
А. Т. : Я уверен, что народ поймет правильно.
Поцелуи, поздравления, пометок на рукописи никаких.
Н. С. Хрущев, вернувшись из Киева, будет, кажется, встречаться с Твардовским среди первых».
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника: «8.VII.1963
В пятницу передал Вл[адимиру] Сем[енови]чу „Т[еркина] на т[ом] св[ете]“. В субботу он позвонил: „Поздравляю“, „очень сильно“, „читать одно наслаждение“, „в сущности, это новая вещь“ и т. п. Сегодня звоню я и иду выслушивать „отдельные замечания“. – Вряд ли когда стоял так вопрос в смысле всей дальнейшей л[итературной] судьбы. – Стоял! И не один раз: „Муравия“, „Тёркин“, „Дом у дороги“, „Дали“ – всякий раз было так: или – или.
Но в данном случае дело связано с дальнейшим моим пребыванием на посту или уходом с такового ‹…›.
А если – победа? – Вчера весь день и всю ночь был в состоянии не то счастья, не то тревоги, работал на участке – косил, подчищал дубы, выкорчевывал внизу ср[еднего] сада голенастую яблоню и порубил на дрова сучья, а ствол оставил до пилы».
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«12.VII.1963
С утра в редакции Александр Трифонович в моем присутствии говорил с главным редактором Гослитиздата А. И. Пузиковым, просил, молил задержать вторую верстку двухтомника поэм. „У меня есть планы… Я кое-что хочу сделать по составу во втором томе“. Потом положил трубку и подмигнул мне. „Думаю я о некой поэме, да не могу ее Пузикову назвать. Первый том получился толстый, а второй – тощий. Так хорошо было бы туда подбавить одну вещь… Совсем по-другому бы все издание заиграло“.
Ему по-детски хочется видеть „Тёркина на том свете“ напечатанным. И в то же время мучительное самоограничение – сказать-то о поэме нельзя.
„Я теперь, выходит, ничего не могу напечатать, не показав «наверху». Мария Илларионовна говорит: это что же, Саша, вроде «я сам буду твоим цензором»? И, кажется, права“. ‹…›
14. VIII. 1963
Ура! „Тёркин…“ разрешен. Я понял это из утренней газеты, а потом поспешил в редакцию. Но опоздал немного… Трифоныч был с утра и рассказывал, как все совершилось. Предполагается печатать „Тёркина…“ в ближайшем „Новом мире“ и одновременно (даже с неизбежным опережением) в „Известиях“. Это, конечно, подрывает успех поэмы у нас в журнале. Ну да бог с ним, тут расчет малый в сравнении с серьезностью случившегося.
16. VIII.1963
‹…› Поэму сегодня сдали в набор – для журнала и для „Известий“».
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника: «18.VIII.1963. Внуково
Сегодня по крайней мере 5 мил[лионов] человек читают мою вещь, известную некоторому кругу читателей с 54-го г. и до последнего дня (вчерашнего) не называвшуюся по ее заглавию, даже после двух строк в сообщении о приеме Н. С. Хрущевым „европейских“ писателей: „С большим интересом участники прослушали новую поэму А. Т. Твардовского, прочитанную автором“.
Появление ее даже подготовленным к этому людям представляется невероятным, исключительным, не укладывающимся ни в какой ряд после совещаний и пленума. – Третьего дня В. Некрасов исключен из партии одним из киевских райкомов. М. б., появись „Тёркин“ днем раньше, этого не случилось бы. Впрочем, у нас все возможно и все необязательно. ‹…›
Все это событие укладывается в несколько решающих часов и похоже на цепь случайностей, счастливых совпадений. – В самолете еще я подбросил мыслишку В[ладимиру] С[еменовичу] (Лебедеву, помощнику Н. С. Хрущева. – Сост .), что читать мог бы и в присутствии коллег – русских писателей, прибывающих с „европейцами“ для встречи. В Адлере мы сели завтракать в Доме творчества Литфонда, а В[ладимир] С[еменович] поехал сразу в Пицунду, чтобы встречать нас там.
Приезд. – Отсутствие „предбанника“, где можно было бы переменить рубашку, как предполагалось. ‹…› Встреча, осмотр „хаты“ (веранда, спортзал, бассейн морской воды, где Н[икита] С[ергеевич], обходя его, нажал некую кнопку, и вслед двинулась из стены дома стеклянная штора, говорят, 80 м в длину – это на случай дурной погоды). Официальная часть встречи в спортзале, где вдруг появился Аджубей в зебровой безрукавке и его бледная Рада. Речь Н[икиты] С[ергеевича] в духе „классовой борьбы“, „идеологического несосуществования“ и т. п. Он представлял себе дело не иначе как так, что перед ним соц[иалистические] писатели и писатели буржуазные, „слуги капитала“. Но все ничего. „Мы с вами пообедаем“, – это раза 3–4. ‹…› Обед в другом помещении в 300 м от дачи Н[икиты] С[ергеевича], по-видимому, cпециального назначения для приемов. – В ходе обеда В[ладимир] С[еменович] (раньше он только сказал, что чтение состоится сегодня, когда проводят иностранных гостей) подошел с новым предложением: не читать ли мне уж и в присутствии гостей (англичане и итальянцы уже простились)? Я, конечно, согласился. Вскоре Н[икита] С[ергеевич] объявил меня: „поэксплуатируем“. – Чтение было хорошее, Н[икита] С[ергеевич] почти все время улыбался, иногда даже смеялся тихо, по-стариковски (этот смех у него я знаю – очень приятный, простодушный и даже чем-то трогательный). В середине чтения примерно я попросил разрешения сделать две затяжки. – „Конечно, конечно“, хотя никто, кажется, кроме Шолохова и меня, сидевшего с ним, (до чтения) на самом конце стола, не курил. Дочитывал в поту от волнения и от взятого темпа, несколько напряженного, – увидел потом, что мятая моя дорожная, накануне еще ношенная весь день рубашка – светло-синяя – на груди потемнела – была мокра. – Кончил, раздались аплодисменты. Н[икита] С[ергеевич] встал, протянул мне руку: „Поздравляю. Спасибо“. Тут пошли было некоторые реплики похвалы, но Сурков быстро сообразил, что „обсуждение“ не должно быть, и предложил тост за необычный факт прослушивания главой великого государства в присутствии литераторов, в том числе иностранных, нового произведения отечественного поэта! Потом я, решительно не принимавший ничего за столом (как и накануне), попросил у Н[икиты] С[ергеевича] разрешения (это было довольно смело) „промочить горло“. Он пододвинул мне коньяк, я налил. „Налейте и мне, – сказал он, – пока врача вблизи нету“. Когда я наливал ему, рука так позорно дрожала, что это многие заметили, но, конечно, это могло быть отнесено только за счет волнения. – И, собственно, дело совершилося, – подошел Аджубей с конкретными предложениями, посулами соблюдения всех необходимых условий и т. п.».
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«30.VIII.1963
‹…› Твардовский рассказывает, что этот „загробный Тёркин…“ писался так долго, что кое-что из него сублимировалось в „Далях“ – в главе „Фронт и тыл“, в вагонном разговоре с критиком и т. д. Какие-то образы, строки невольно расходились и по другим вещам, пока поэма лежала. „Я лучше всех знаю недостатки нынешнего «Тёркина…», – говорит Александр Трифонович, – знаю, что тут темновато, усложнено, плохо, но поправлять уже не буду, пусть как на нынешний день сложился, так и живет ‹…›“».
Из книги Я дрался на «Аэрокобре» автора Мариинский Евгений ПахомовичТёркин в плену Морозным январским днем Архипенко повел четверку - он, Цыган, Королев и я - на новый аэродром.Бетонка, покрытая слоем снега, все же выделялась на ровном белом фоне. Кажется, совсем недавно с нее поднимались «Мессеры» во время налета «пешек» на
Из книги Лермонтов: воспоминания, письма, дневники автора Щеголев Павел Елисеевич Из книги Брежнев автора Млечин Леонид Михайлович«А ты был на том свете?» Врачи вытащили Косыгина из беды. Но Алексей Николаевич сильно изменился. Он стал иногда говорить на отвлеченные темы, вероятно, чтобы снять напряжение. Однажды спросил Байбакова:- Скажи, а ты был на том свете?Николаю Константиновичу стало
Из книги Спендиаров автора Спендиарова Мария АлександровнаПри свете коптилки К концу 1917 года завершился первый этап задуманной Спендиаровым работы - запись и отбор музыкального материала. К этому времени надежда на приезд Туманяна, назначенный на лето того же года, была окончательно потеряна. Перед композитором, мечтавшим
Из книги Сколько стоит человек. Тетрадь девятая: Чёрная роба или белый халат автора Из книги Сколько стоит человек. Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах. автора Керсновская Евфросиния АнтоновнаВасилий Теркин помог Однажды я сидела на своей верхотуре, разложив вокруг все свои причиндалы. На коленях - сложенная телогрейка, на ней - фанера. Это мой рабочий стол. Вокруг огрызки карандашей, обмылки красок, тушь… Все мое богатство, все утешение!Как раз я только что
Из книги Одна на мосту: Стихотворения. Воспоминания. Письма автора Андерсен Ларисса Николаевна«Где-то там, на этом свете…» Где-то там, на этом свете, Ты живешь не для меня. И растут не наши дети У не нашего огня. Но неведомая сила Не развязывает нас. Я тебя не отпустила - Ни навеки, ни на час. Лишь уснешь - тебе приснится Темный сад и звездный пруд… И опять мои
Из книги Поэзия народов Кавказа в переводах Беллы Ахмадулиной автора Абашидзе Григол«Что бы ни делалось на свете…» Что бы ни делалось на свете, всегда желавшем новизны, какой бы новый способ смерти ни вызвал старый бог войны,- опять, как при слепом Гомере, лоза лелеет плод вина, шум трав и розы багровенье - всё, как в иные времена. И слёз о смерти так
автора Из книги Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим) автора Войнович Владимир НиколаевичГлава шестьдесят девятая. Тёркин и Чонкин «Что это за фамилия?» Осенью 1967 года, закончив первую часть «Чонкина», я дал прочесть написанное Асе Берзер, а потом Игорю Сацу. Тот хотел было показать рукопись Твардовскому, потом забоялся и собрался нести ее Кондратовичу. Я его
Из книги Рассказы автора Листенгартен Владимир АбрамовичНа том свете Грешник в очереди у ворот, где апостол Петр направляет души умерших в рай или в ад. Он замечает, что всех, кто говорит, что был женат, Петр пропускает в рай, больше ничего не спрашивая.Апостол Петр его спрашивает:- Вы были женаты?- Да, два раза!- В
Из книги Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи автора Матвеева Новелла Николаевна«Всё сказано на свете…» Всё сказано на свете: Не сказанного нет. Но вечно людям светит Не сказанного свет. Торговец чучелами птиц Сегодня мне приснился: Трухой, как трубку табаком, Он дятла набивал. Желтела иволга в тени, Орёл в углу пылился, И не дразнился попугай, И
Из книги Грета Гарбо и ее возлюбленные автора Виккерс ХьюгоУспехи в свете В 1971 году Дэвид Бейли сделал документальный фильм о Сесиле Битоне, который озаглавил «Битон по мотивам Бейли». В одной из сцен о нем ведут беседу Трумен Кэпот и Диана Вриланд, редактор журнала «Вог».Миссис Вриланд говорит:«Сесиль из тех людей, кто целиком и
Из книги Дневные звёзды автора Берггольц Ольга ФедоровнаСказка о свете Мне казалось, что кто-то быстро гладит меня по лицу прохладной, пушистой лапкой.«Белка», - подумала я, не удивляясь, и в ту же минуту мне приснилась оранжевая сосновая роща, где сосны стояли очень прямые и ярко-оранжевые и между ними неподвижно висели
Из книги Леонид Быков. Аты-баты… автора Тендора Наталья Ярославовна«Василий Теркин» Заявка на постановку этого фильма тоже подавалась Леонидом Быковым в Госкино сразу после «Стариков…», но так и не получила одобрения. Возможно, она просто не дошла до адресата – столько было недоброжелателей у Быкова в
Из книги 101 биография русских знаменитостей, которых не было никогда автора Белов Николай ВладимировичВасилий Теркин Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» прямо с газетного листа шагнула в ряд классических произведений советской литературы.В образе Василия Теркина поэт воплотил обобщенный тип миролюбивого труженика, всегда готового, тем не менее, дать отпор
Странная
судьба постигла самую странную, предпоследнюю поэму А. Т. Твардовского -
«Теркин на том свете», последнюю, которую поэт увидел в печати. Появившись
в августовском номере редактируемого им журнала «Новый мир» за 1963 год,
поэма имела огромный успех у читателей, однако в критике отношение к ней
оказалось чрезвычайно противоречивым. Самые восторженные отзывы чередовались
с непримиримо-разносными. Объяснение можно было найти не в литературных
симпатиях и антипатиях, а в политическом развитии нашего общества. Сегодня
легко увидеть, что выход поэмы словно бы открывал последний год хрущевской
«оттепели», ибо в октябре 1964 года «дворцовый переворот» в партийном руководстве
покончил и с правлением Хрущева, и с разоблачениями «культа личности». Начался
так называемый «застой», а вместе с ним и период многолетнего замалчивания
«Теркина на том свете» (не говоря уж о последней поэме А. Т. Твардовского
«По праву памяти», которая смогла увидеть свет лишь после смерти поэта,
в 1987 году). Даже в большом «Советском энциклопе¬дическом словаре» 1983
года не было еще ни строчки о знаменитом «сошествии во ад» знаменитого Василия
Теркина, словно и не писал этого Твардовский, словно и не читала страна,
не схлестывались мнения критиков.
Да что говорить о далеком прошлом, когда даже в августе 1993 года никто
и не вспомнил о том, что прошло ровно 30 лет со дня первой публикации «загробной
песни» Твардовского. Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда - вспомним
поэму сегодня и подумаем над ней.
Если сегодня не один Вася Теркин, а вся страна переживает «сошествие во
ад», то, во всяком случае, это два совершенно разных ада: наш - демократический,
а тот - тоталитарный. Говоря так, мы определяем лишь социальную «малую родину»
поэмы, тот реальный общественно-культурный контекст, в котором, как в материнской
утробе, замысел воплотился в произведение. Однако для любого великого произведения,
кроме настоящего, важно и свое прошлое - отечественные, национальные и мировые
литературные источники, традиция. У этого великого произведения есть и свое
будущее, поскольку собственный заряд вечности обеспечивает непреходящий
интерес к нему.
Наше время уже ничего не может изменить в тексте поэмы, в которой через
призму души поэта отразилось два времени: время написания (1954-1963) и
время, в котором происходит действие написанного. А это - реальное время,
как ни удивительно для фантастического сюжета. Так, на просьбу Теркина определить
ему, наконец, какое-то место в загробном мире, следует ответ генерал- покойника:
Ясно, что Теркин с «этого света» убыл, а на «тот свет» прибыл, когда уже вовсю шло наше наступление. Можно и еще более уточнить: все произошло не ранее конца 1944 года, ибо, оказавшись в загробном мире, Теркин вспоминает:
О «прочих нагрузках» помолчим, а вот стремительный прорыв обороны немецко-фашистских
армий группы «Центр», потребовавший участия солдата Теркина и оторвавший
его от свиного кулеша, случился в августе 44-го. (К слову, ему посвящен
и прекрасный роман О. Богомолова «В августе 44-го».) Однако Теркин был ранен
все же не в августе, а позже, в декабре того же года, ведь он возвращается
с «того света» к жизни на койке военного госпиталя как раз в новогоднюю
ночь, с чем его и поздравляют.
Время героя определено однозначно. Сложнее - с временем автора. В качестве
фронтового корреспондента Твардовский шел путем своего Теркина, а писал
поэму десять лет спустя после войны. В его душе сплетаются и взаимодействуют
две совершенно различные исторические эпохи, причем Твардовский как автор
живет в одной, а как невидимый спутник своего героя - в другой.
Очень важно помнить о том, что та, другая эпоха заключала в себе два необыкновенно
различных мира: мир войны и мир страны, работавшей на войну. Этим определяется
реальный план фантастической поэмы. В знаменитой «Книге про бойца» поэт
рассказал о жизни своего героя на войне. После победы к Твардовскому приходили
многочисленные читательские письма с настойчивой просьбой: продолжить поэму.
Более того, иные читатели с энтузиазмом сами взялись написать продолжение
- уж очень хотелось увидеть любимого героя в условиях мирного времени. Но
Твардовский решительно отвергал самую мысль о таком продолжении, он утверждал:
«...книга не может быть продолжена на ином материале, требующем иного героя,
иных мотивов...» Это было сказано в 1951 году на страницах «Нового мира»,
а уже три года спустя поэт взялся за продолжение поэмы - с тем же героем
и действующим в то же время, только не на войне, а как бы в отпуске по ранению.
Впрочем, если бы это было так, тогда - вместо фантастического путешествия
в загробный мир! - поэт написал бы путешествие своего лихого героя в родные
места. Что бы из этого вышло? Не будем гадать, лучше вспомним такие, например,
сугубо реалистические повести, как «Живи и помни» В. Распутина (1974) или
«Отпуск по ранению» В. Кондратьева (1980). Это вещи гораздо более поздние,
плоды иного времени, а вот рядом с фантастической поэмой и даже немного
ранее ее появился роман Ю. Бондарева «Тишина» (1962) - реалистическое повествование
о драматической судьбе фронтовика в мирных условиях. Конечно, это был не
Теркин и годы - послевоенные, но до чего же похожи испытания, выпавшие на
долю героев Твардовского и Бондарева! До чего схожа реакция того и другого
на Систему, на режим! Совпадает сама ситуация: живой человек в тенетах мертвого
мира. Да и в литературной критике реалистическую «Тишину» приняли так же
настороженно, как и фантастическую поэму. Вот и говорите после этого, что
один герой действует на этом свете, а другой - на том. Нет, оба - на этом,
на нашем свете. Оба приходят к страшной мысли: на фронте им было легче.
Сопоставляя мир, из коего убыл, с миром, в который прибыл, Теркин делает
свой выбор:
Размышляя о фантастическом мире поэмы, нельзя не вспомнить и глубокое замечание поэта из автобиографии: «Условность, хотя бы фантастического сюжета, преувеличения и смещения деталей живого мира в художественном произведении перестали мне казаться... противоречащими реализму изображения». Иначе говоря, рисуя «тот свет», поэт думал об «этом свете». Изначальная склонность Твардовского к условности была и своеобразным развитием традиции русской поэзии XIX века, и продуктом цензурных условий советского периода. Работа над поэмой началась почти сразу после смерти Сталина, когда столь критический подход был совсем еще не для печати, поэтому Твардовский, естественно, искал подходящий для поэмы «эзопов язык». Для прямого потомка смоленских крестьян органичным оказался язык христианских представлений. Хотя, возможно, поэт, напротив, шел от этих представлений, давших ему и символ, и стимул. О форме и содержании поэмы автор высказался во вступительном обращении к своему будущему критику:
Справедливо заметил один из первых рецензентов поэмы: у Твардовского пушки к бою едут задом, но едут они к бою. Загробный мир под пером поэта стал зеркальным отражением мира реального и обвинительным приговором «диктатуре пролетариата», к тому же издевательски сопоставленной с режимом буржуазным:
Такой «беспредел» художнической дерзости, воистину тотальный характер сатирического
обобщения заранее обрекал поэму (и поэт предвидел это!) на возмущенные отклики
официозной, охранительной литературной критики 60-х годов. Сами себя критики
этого сорта гордо именовали «партийными», хотя на деле были выразителями
идеологии и интересов тогдашнего господствующего класса - номенклатуры,
не собиравшейся сдавать свои позиции. Сатирическая поэма срывала маску с
Системы номенклатурной, называвшей себя «социалистической». Один из видных
представителей «партийной критики» писал: «Режим... высмеивается, а то и
рисуется красками прямо-таки зловещими».
Учитывая всенародную популярность Твардовского, охранительная критика поостереглась
обвинить поэта в антисоветчине, постаралась преуменьшить значение поэмы,
раздробив целостный сатирический образ на отдельные мелкие критики тех или
иных отдельных недостатков, мешающих строительству коммунизма, которое якобы
идет полным ходом. Возражая этой лицемерной критике «справа» и одновременно
стремясь прежде всего защитить поэта, «левые» критики того времени, к сожалению,
тоже вынуждены были утверждать, будто сатира Твардовского направлена против
отдельных явлений и притом ставших уже преодоленным прошлым. Сам Твардовский
еще в поэме «За далью - даль» (1950-1960) твердо отмежевался от такого
рода самоутешений:
Утверждение о прошлом, об эпохе «культа личности» как об уже «отмененной», желание убедить, будто «преисподняя - это мир отжившего...» противоречат пафосу поэмы, ее хотя и фантастическому, но высшей пробы реализму. Сатира Твардовского потому и била и в прошлое, и в настоящее, что замысел поэта состоял не в критике отдельных «язв на здоровом теле общественного организма», а в отрицании «организма», Системы, которая в 60-х годах, потеряв клыки и резцы, по сути осталась тоталитарной. И эта Система никак не хотела «отменяться» и «отживать». И даже совсем наоборот: все более усиливался тогда «культ личности» главного разоблачителя «культа личности» - культ Н. С. Хрущева. Не случайно же год спустя, снимая Хрущева, Политбюро указало на стремление генсека к личной власти и самовосхвалению. Разве такой поворот нельзя было предвидеть? Вспомним поэму:
Охранительная критика тонко чувствовала и по сути приветствовала тот факт,
что «партия», то есть партноменклатура, медленно, но верно замораживает
«оттепель», или, как тогда говорили, «завинчивает гайки».
Однако начало все же было положено - и парадокс в том, что зерна истины
мы обнаруживаем сегодня как в «левой», так и в «правой» критике. Более того,
и та и другая нередко совпадали в разборе отдельных граней поэмы, оценке
ее героя и антигероя, Василия Теркина и его бывшего фронтового друга, а
ныне генерал-покойника, вошедшего в номенклатуру «того света».
Критика «справа», опираясь на текст и сопоставляя нового Теркина с прежним,
показала, что новый Теркин не способен «новыми подвигами прославить свое
легендарное имя», «даже плюнуть не может на всю эту мертвечину». Рецензенты
не догадывались (или делали вид, что не догадываются!), что сами живут как
раз на том самом свете, который описан в поэме и который Теркин - в отличие
от своих обличителей! - органически не приемлет.
Для друзей поэмы и поэта, напротив, было несомненным, что новый Теркин остался
прежним Теркиным. Однако этот тезис невозможно подкрепить конкретным анализом
и пришлось признать, что образ знакомого героя «пересоздан поэтом согласно
отведенной ему в сатирическом произведении функции для контраста. Он луч
света, который врывается в мрачный мир «преисподней». Разумеется, Теркин
вовсе не «врывается» в загробный мир, а попадает туда против своей воли,
но функциональность образа героя отмечена верно: «луч света». Можно уточнить:
лампада, которая «мерцает и тлеет» пред властью тьмы загробной. И вся драма
в том - погаснет или не погаснет, доконают его в «зале ожидания» или он
все же прорвется обратно к жизни, к живым.
Итак, новый Теркин - не прежний, но замысел поэта в том и состоял, чтобы
показать силу подавления человека Системой как раз через изменение всем
знакомого образа героя, через невольную его деформацию, через его неодолимое
стремление вернуться к самому себе. В образе Теркина пафос жизнеутверждения
сплетается с пафосом отрицания окружающей его мертвечины вообще, отрицанием
генерал- покойника, чей образ все критики оценили как художественно значительный
и содержательный.
«Правая» критика «честно» признавала: «Это - законченное и полное порождение
«того света», человек, в котором вовсе ничего уж не осталось от прежнего
и для которого вся окружающая его мертвечина - единственно нормальный и
удобный способ существования. Условная фигура традиционного «Вергилия» постепенно
обретает в поэме все более явственные черты типического характера...» Мы
видим невольное признание поэтического новаторства Твардовского по отношению
к дантовой фигуре проводника по аду. В генерал- покойнике Теркин с ужасом
увидел свое возможное будущее - и не согласился с ним. В отличие от героя
Данте, герой Твардовского не был «созерцателем» (как утверждала недоброжелательная
к поэме критика), но и не мог быть бойцом хотя бы в силу тяжелого ранения.
Риск превратиться в «окончательного» мертвяка был велик, а шанс вернуться
к себе, в жизнь - ничтожен. Замечая это, охранительная критика обвиняла
Твардовского в том, что он «придал всему повествованию оттенок безысходности»,
что его герой освобождается из загробного мира «лишь к самому концу поэмы»
(а как бы состоялась поэма, если бы герой «освободился» в самом ее начале?),
в том, наконец, что его новая поэма «противоречит живому направлению и сущности
его таланта, оспаривает... «Книгу про бойца», - хотя на самом деле поэма
противоречила официальному оптимизму и официальному представлению об «обществе
развитого социализма». В самом деле, хотя действие в ней поддается точной
хронологической датировке, само изображение «загробного мира», благодаря
природе фантастической сатиры, представляет общественную Систему в тех существенных
чертах, которые неизменны в период войны, послевоенного времени и периода
«оттепели». Изменяется все живое, а мертвое неизменно или, как говорит поэт,
«живой спешит до места, мертвый дома - где ни есть». Живым был Теркин в
своем споре со Смертью в главе «Смерть и воин» поэмы «Василий Теркин», таким
он остался и в поэме «Теркин на том свете». Там - «и, вздохнув, отстала
Смерть», и здесь - «И уже сама устала и на шаг отстала Смерть».
Прав был критик Вл. Орлов, писавший, что «вся поэма оборачивается боевой,
гневной сатирой на тех, кто уже не на том, а на этом, на нашем свете, рядом
с нами, мешает нам... бороться и строить будущее». Все верно, только вот
вопрос: за какое будущее бороться, какое именно будущее строить? Тут представления
тогдашних «правых» и «левых» расходились коренным образом, как это произошло
и в наши дни.
В 60-е годы, когда царствовала еще идеологическая цензура, различия таились
в глубине, а на словах те и другие громогласно, искренне или лицемерно,
провозглашали свою преданность «идеалам коммунизма». «Верхи» не хотели открывать
свои козырные карты, а «низы» - не могли, опасаясь преследований. В результате
одни скрытно накапливали в себе «гроздья гнева», вслух мечтая о новом Стеньке
Разине (ярче всех это выразил Василий Шукшин), а другие не менее скрытно
обогащались и развращались. Словно открывая тайну «верхов», поэт сочинил
символическую «стереотрубу», позволяющую «верхам», втайне от «низов», наслаждаться
прелестями «гнилого Запада». По поводу этой стереотрубы было справедливо
сказано, что еще Маяковский в «Бане» заклеймил интерес советской элиты к
запрещенным в СССР «радостям жизни». «Покажите нам буржуазное разложение,
- вздыхала мадам Мезальянсова. - Даже если это нужно для агитации, то и
танец живота». Твардовский резко заострил сатиру, придав нравственной оценке
(мещанство!) четкую социальную характеристику (номенклатура!). Будучи зеркальным
отражением нашего этого света, наш тот свет в поэме Твардовского свято соблюдает
реальную социальную иерархию в отношении к поступающим мертвякам:
Сегодня, читая поэму, мы невольно смеемся даже в тех местах, где поэт и
не думал смеяться, потому что некоторые его картинки очень похожи на сцены
теперешней жизни, ну хотя бы на то, как власти демонстративно стоят при
свечке, хоть и без креста.
Возмущенный тем, что и в загробном мире нет спасения от бюрократической
волокиты, Теркин дерзит местному начальству, а затем, уже в полном отчаянии,
спрашивает генерал- покойника, а нельзя ли
В последних словах чувствуется горечь самого Твардовского, понимавшего,
что Система устояла, отбив первый «оттепельный» натиск изнутри, как сумела
она отбить перед этим и натиск извне. С той, понятно, разницей, что внешнего
врага Система отбивала вместе с народом, а теперь стояла против народа,
защищая свои привилегии.
Пока элита созерцает через стереотрубу «свежесть струй и адский чад», Теркин
на фронте через ту же стереотрубу видел только «край передний» и «в дыму
разрывов бой». Когда же «дым разрывов» рассеялся, раненый Теркин то ли в
бреду, то ли во сне, но со всей ясностью увидел ту Систему, с которой ужиться
не может. Однако трагического «внезапного прозрения» героя в поэме не произошло:
ведь на том свете он увидел все то, что ему знакомо по жизни на этом свете.
Критикам 60-х годов тоже казалось, что в странной поэме Твардовского им
все знакомо и по сути все понятно, остается только определить свое отношение.
Но они упустили свой шанс на «внезапное прозрение», не увидев в поэме нечто,
им совсем или почти совсем неизвестное. Если верно, что мы не можем увидеть
глазом того, чего не знает ум, тогда понятно, почему критики, как «правые»,
так и «левые», будучи коммунистами своего времени, увидели в поэме то, чего
в ней не было, - «ветер ленинской правды», и не увидели, не почувствовали
пронизывающего ее христианского пафоса. Тот «ветер» в те годы означал новое
наступление на Православие, разрушение и закрытие церквей по всей Руси великой.
Разве в такой ситуации можно было ожидать от писателя- коммуниста христианской
поэмы? Это кажется невероятным: главный редактор журнала, лауреат Сталинских
премий, кандидат в члены ЦК КПСС, то есть свой человек в атеистическом государстве
- и вдруг православная по сути поэма?!
Да, православная, но не вдруг, а потому, что Твардовский вышел из деревни,
из русской крестьянской семьи, родился и вырос еще тогда, когда не было
ни Октябрьской революции, ни даже «лампочки Ильича», а был один свет в окошке
- свет веры Христовой. Конечно, Твардовский поверил в новую жизнь и даже
вступил в партию, но не будем забывать и того, что митрополит Сергий первым
выступил с призывом к народу встать на защиту Отечества - сразу после вероломного
нападения фашистов 22 июня 1941 года. Не забудем, что церковь обратилась
к своим прихожанам с призывом жертвовать на строительство военной техники
для Красной Армии. Не забудем и такого важного исторического события, какое
случилось в 1943 году, когда Сталин пригласил к себе иерархов Русской церкви,
после чего все оставшиеся в живых иерархи были освобождены, была восстановлена
Духовная академия и, наконец, главное: было восстановлено Патриаршество.
Нет сомнений в том, что все это не прошло мимо крестьянского сына и наследника
крестьянской поэзии России Александра Твардовского.
Самоочевидно, что поэт, поставивший себе целью зеркальное отражение посюстороннего
мира в мире потустороннем, используя по-своему христианскую идею загробного
мира, не имел возможности свободно развивать тему религии и церкви. Но вот
драма человека, оставшегося волею XX века и Советской власти ("ветер
ленинской правды"!) без Бога, прорвалась и в самый текст поэмы:
Вопрос повис в воздухе, ибо в те суровые времена молиться разрешалось только одному кумиру - Сталину. О нем в поэме рассказывает Теркину, отвечая на его вопрос, один из начальников преисподней, генерал-покойник:
Теркина от таких слов прошиб и пот, и озноб, стало и жарко, и холодно: в
сталинские годы за такие слова полетели бы сразу две головы - и того, кто
сказал, и того, кто слушал. Впрочем, и в 60-е монолог генерал- покойника
о Сталине (в котором имя Сталина, как имя земного бога, не помянуто всуе!)
вызвал оторопь литературной критики. Все рецензенты лишь слегка коснулись
этой темы, да и то в дозволенных тогда стандартных словах о «последствиях
культа личности».
А ведь образ, нарисованный поэтом, был не просто сатирическим, это одна
из первых попыток литературы осмыслить роль и личность Сталина в свете уже
известного исторического опыта. Вспомните сделанный гораздо позднее скульптурный
портрет Н. С. Хрущева работы Эрнста Неизвестного для надгробия на Новодевичьем
кладбище - сочетание натурализма и символизма, точного портрета и двух мраморных
плит: снежно-белой и аспидно-черной. Это, конечно, яркое, хотя и упрощенное
изображение противоречивой личности Хрущева, возможно, навеянное образом
Сталина в поэме «Теркин на том свете»: он и вождь живых, и царь мертвых,
он и с живыми, и с мертвыми, он и наверху, и внизу, и на земле, и в преисподней!
Думаю, что образ Сталина, кратко и сильно очерченный Твардовским, был в
те годы и, что удивительно, остается до сих пор самым глубоким из всех,
уже написанных писателями и историками.
Истина Истории не укладывается в прокрустово ложе однозначных приговоров,
к которым столь склонен человеческий разум. Истина всегда диалектична, и
нередко к ней быстрее других пробиваются вдохновенные пророки-поэты. Читая
и перечитывая «Теркина на том свете», невольно вспоминаешь другую поэму,
написанную более чем за сто лет до этой великим тезкой Твардовского - Александром
Пушкиным. Там развивался подобный же сюжет: борьба человека с системой,
режимом, попытка человека спастись от преследующего его призрака Смерти.
Речь не о наводнении 1824 года, грозившем гибелью многим:
Был рай - стал ад. Поэт назвал поэму «печальным рассказом», на деле вышла
трагическая петербургская повесть, предварившая на годы петербургские повести
Гоголя. Но и судьба поэмы была под стать ей самой: автор так и не смог увидеть
ее напечатанной при жизни. Самодержавная власть в лице Николая I требовала
таких «исправлений», на которые поэт не согласился.
Итак, в столице, вдруг ставшей подлинным адом, герой поэмы, Евгений, сходит
с ума. Или это был бред, страшный сон?
Наводнение смыло домик, в котором жили мать и дочь - его любимая Параша. Потеряв любимую, Евгений потерял все, он сам стал бездомным, «он скоро свету стал чужд». Иначе говоря, на этом свете он стал чужим, а жил как бы на каком-то другом, своем свете. Евгений спал на пристани, питался подаянием, одежда его стала ветхой, его стегали кучера, но он ничего не замечал:
Последняя драма, однако, была еще впереди и началась, как ни странно, именно тогда, когда «прояснились в нем страшно мысли». Прояснение мыслей привело к бунту против «мощного властелина судьбы». И тогда самодержец решил раздавить героя копытами своего коня. Раздалось знаменитое «тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой». Власть гналась за бежавшим от нее человеком. Человеку не было прощения, преследованию не было конца. И вот финал:
Исход из непокорности в смерть - удел пушкинского героя. Напротив, Вася
Теркин ускользнул от лап Смерти. Его исход - бегство из загробного мира
в жизнь - можно объяснить и жанром «сказки», и догмой соцреализма, но в
самой поэме он определяется как «редкий случай в медицине» - лукавое выражение
мудрого, отнюдь не медицински, а исторически мыслящего поэта. Почему же
«редкий случай» стал возможен? Твардовский заканчивал свое произведение
совсем не в ту эпоху, в какую начал. Год 1963-й - это не то, что год 1954-й.
Поэту посчастливилось пережить не только Сталина, но и эпоху сталинизма,
перейти в эпоху «оттепели», имевшую огромное значение для России и ее творческой
интеллигенции. Это был как бы выход с того света на этот, из мрака на свет.
Одним словом, у Пушкина в 1833 году уже не было причин, чтобы спасти Евгения,
а у Твардовского в 1963 году уже не было причин, чтобы погубить Теркина.
Обе поэмы остросоциальны, и в обеих ощущается горячее дыхание Истории. Но
Твардовскому, в отличие от Пушкина, повезло: он успел опубликовать свое
фантастическое сочинение до «дворцового переворота» в октябре 1964 года,
после которого тема «культа личности» была закрыта и его следующая антикультовая
поэма «По праву памяти», законченная в 1969 году, была «задержана» почти
на двадцать лет. Таким образом, Твардовский все-таки испытал на себе тот
гнет верховного цензора, который испытал Пушкин. Поэт и Власть в России
второй половины XX века разошлись так же, как и в первой половине XIX столетия...
В тексте сатиры Твардовского упомянуто имя Данте, известного в России не
только трилогией «Ад» - «Чистилище» - «Рай», то есть «Божественной комедией»,
но и сонетами. «Суровый Дант не презирал сонета»,- писал Пушкин, но «высшую
смелость» Данте видел в «Божественной комедии», «где план обширный объемлется
творческою мыслию», и особенно ценил V песню «Ада». Ценил, подражал - и
«пародировал», применяя высокий стиль Данте к низким предметам. Таковы шутливые
терцины Пушкина «И дале мы пошли...» и «Тогда я демонов увидел черный рой...»
(1832). Спустя несколько лет, в 1836 году, Пушкин вновь обратился к теме
ада в маленьком, но ярком и страстном стихотворении «Подражание италиянскому»,
где, впрочем, нет никакого подражания, а есть использование по-своему образа
ада для того, чтобы дописать судьбу Иуды после того, на чем остановился
евангелист,- после того, как Иуда повесился:
Точно так же с указанием, в подзаголовке, на «подражание Данте» использовал образ ада в своем стихотворении «Десятый круг» ныне забытый поэт начала XX века Д. Н. Тигер:
Далее следует сатира на российскую столицу в 1916 году - на третьем году
мировой войны и в канун Февральской революции. Картинка, надо сказать, весьма
напоминающая наши дни с их мелкой уличной спекуляцией, развалом общественного
транспорта, пьяными водителями личных автомобилей и т. д. И все это - при
активном участии чертей и бесов в важной форме дантовских терцин. Муки «грешных
душ» иногда прямо-таки предвещают муки Теркина на том свете, его напрасное
старание найти место, чтобы отдохнуть (у Тигера сотни грешников «клянут
судьбу, скитаясь без приюта») или попить воды (у Тигера «за множество грехов»
люди томятся «без молока, без сахару, без дров»). И эти вполне плотские
терзания совпадают совсем не случайно: у Тигера адом оказывается Петроград,
в котором страдают живые люди, но и Теркин еще «труп живой», если воспользоваться
выражением Пушкина, оттого у него и все потребности живого: чтобы табак
был не бездымный, чтоб женский пол был не условный и т. д.
Если Данте перенес своих политических противников в потусторонний мир, в
ад, то русский сатирик начала XX века сделал обратное: перенес ад с его
чертями и бесами в Петроград, показал, что знаменитая столица, воспетая
Пушкиным, стала воистину адом для людей. «Явившись новым Дантом» (реплика
- в поэме - язвительного критика, с которым спорит Твардовский), автор «Теркина
на том свете» начисто отказался от чертей и бесов, поскольку в его зеркальном
отражении не может быть ничего и никого, кроме того и тех, что есть и кто
есть в реальном мире. Естественно, что место Сатаны в поэме заняла Система.
Загробное зеркало Твардовского обладает неким волшебным свойством: оно отражает
не быт, как делал Тигер, но бытие, не общество, но - режим, не «научный
социализм», но - казарменный. В поэме Твардовского мы видим, говоря словами
Пушкина о Данте, «план обширный, что объемлется творческою мыслью».
Есть и другая важная черта, общая судьба всех трех героев произведений Пушкина,
Тигера и Твардовского: все трое спасаются от обезумевшей действительности
бегством - иного им не дано. Увы, Евгений погиб. У Тигера бегство, видимо,
удалось, стихотворение кончается явным вздохом облегчения: «И в страхе я
удрал из Петрограда». Мне здесь так и слышится: удрал из Петро-ада! Возникает,
правда, вопрос: куда удрал? Ведь по всей России одно и то же: война, разруха,
голод. Теркину тоже побег из преисподней удался, и поэт предусмотрительно
указал, куда удрал герой: на ту самую госпитальную койку, на которой ему,
видно, и приснился этот его чудный сон, не менее страшный, чем сон Татьяны.
Но в таком случае - это мнимое спасение, поскольку Теркин из мира зеркальных
отражений вернулся в мир первообразов. В годы войны никакого другого мира
у Теркина не было - и на том, и на этом свете была одна «власть безмерная»
того, о ком в поэме сказано:
Ни один из русских царей - а до Петра все они жили в Московском Кремле -
не превращал Кремль в склеп, недоступный народу. Ни один из царей не додумался
ставить себе памятники при жизни. То, о чем так емко сказано в поэме,- не
русская, а именно советская традиция, которую, как ни странно, «развивают»
нынешние власти. Увы, эти власти, подобно всем предыдущим генсекам, сидят
в Кремле как в прижизненном склепе и при жизни ставят себе тоже некие памятники.
Так, в незабываемом октябре 1993 года распахнулись двери словно чудом восстановленного
Казанского собора на Красной площади Москвы. Но стоит войти в храм, чтобы
сразу стало ясно: чудо здесь ни при чем. Собор, с паперти коего в XVII веке
гремел своими проповедями огнепальный протопоп Аввакум, собор, который был
снесен по приказу Советской власти,- восстановлен по воле и с помощью нынешних
властей. Однако не ищите на соборе памятной доски в честь Аввакума, ее нет.
Зато в самом храме, чуть ли не рядом с иконами укреплена толстая медная
доска - на века! - с именами президента и мэра Москвы (и даже заместителя
мэра!), которым церковь обязана восстановлением знаменитого храма. Чем не
памятник себе - и при жизни?
Ничего не поделаешь: демократическая ветка, привитая к бюрократическому
стволу, приносит давно знакомые нам плоды. От этого и получается, что сатира
Твардовского оказывается вроде бы пророческой, в ней мы находим отражение
не только его времени, но и нашего. Таков образ страны, где никто не работает,
а есть только руководство и учет:
Словно сказано о современных теориях экономической реформы, которая «темна для простаков»... О сегодняшней демократии Твардовский мог бы сказать:
| Обозначено в меню, А в натуре нету. |
Жаль, но почему-то не появляется у нас новый Твардовский, который бы сатирически
увидел уже не окаменевшую Систему, а нашу бесконечную суету, говоря словами
поэта, «В Комитете по делам Перестройки Вечной», да изобразил бы наш сегодняшний
этот свет как карикатурно-зеркальное отражение того, западного света...
Обнажение истины - вот что происходит на «том свете» Твардовского и чего
так не хватало нашей литературе до него. «Можно сказать, что в последние
десятилетия советская сатира не поднималась на такую высоту в идейном и
художественном отношении, на какую поднял ее Твардовский, создав это произведение»,-
так оценена поэма «Теркин на том свете» в одной из статей 1965 года. Разделяя
эту оценку, хотелось бы задуматься только над тем: советская ли сатира или
все же антисоветская поэма Твардовского? Вопрос не простой, но в ответе
на него тоже должно произойти хотя бы некоторое обнажение истины о противоречивом
литературном процессе семидесяти послеоктябрьских лет.
Фантастическая поэма Твардовского - фантастически сложное произведение,
о котором нам еще думать и думать. Может сложиться впечатление, что перед
нами - смелая, глубокая и масштабная политическая сатира. Это, конечно,
так, но Твардовский не был бы Твардовским, если бы в его поэме политика
не переплеталась с философией, а в его философском размышлении центральное
место всегда занимала проблема жизни и смерти. Не случайно и в «Книге про
бойца» целая глава посвящена спору воина со Смертью. Не случайно и критики,
анализируя фантастическую поэму, дружно вспоминали знаменитое двустишие
Маяковского: «Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь!» Перекличка
«Юбилейного» с «Теркиным на том свете», на первый взгляд, самоочевидна,
достаточно вспомнить эти афористические строки:
Таков завет Твардовского, таково кредо реалистической литературы. Когда
человека хоронят по-христиански, то на могиле ставят крест, обозначают фамилию,
под которой две даты - рождения и смерти, а меж ними - коротенькая черточка.
Впечатление такое, что всего важнее именно эти даты. Но литературу не обманешь,
она стремится прежде всего разобраться в том, что за черточкой - понять
жизнь, судьбу человека. В художественном мире Маяковского смерть есть не
более чем «точка», которую поэт вопреки христианскому завету может поставить
пулей. Весь интерес для него - в жизни, желательно «в буче, боевой, кипучей».
А если в этой «буче» невзначай убьют его самого?
Убьете, похороните - выроюсь!
Символами жизни для Маяковского были - изначально! - солнце и золотой цвет.
Сама земля оказывалась «с наполовину выбритой солнцем головой» ("Ко
всему", 1916). Задолго до эпохи «исторического оптимизма» и «социалистического
реализма» Маяковский сказал о себе ключевые слова: «Мне, чудотворцу всего,
что празднично...» Он не терпел, чтобы и небо забывало о том, что оно -
голубое. Вот его воистину «языческая клятва»:
Он остался верен себе и в другом знаменитом языческом, хотя уже и послеоктябрьском заклинании:
| Светить всегда, светить везде... |
Насколько пафос и Маяковского, и Твардовского при всем их различии отвечает коренной русской художественной традиции, можно увидеть, сопоставив миры того и другого с художественным миром древнерусской иконописи. Природные краски света и тьмы использовались иконописцами в условном, символическом, потустороннем смысле. Иконописное искусство - прежде всего солнечное искусство. Золотой цвет, солнечный свет означают центр, а все другие краски - окружение. Источником этого царственного света был только один Бог, сияющий «паче солнца». Солнечная краска - главная и в художественном мире Маяковского.
Ниже этого мира - мир человеческих чувств и настроений, «где солнечная лирика светлой радости совершенно необходимо переплетается с мотивом величайшей в мире скорби - с драмою встречи двух миров». Один из этих двух миров - посюсторонний мир Жизни, другой - потусторонний мир Смерти. А где же место человеку? У Маяковского - в мире света. У Твардовского - на границе света и тьмы, его человек «ходит краем, зная край». Здесь поэзия встречается с глубочайшей нравственной задачей, не поддающейся окончательному решению ни в одном, пусть самом великом произведении.
И в этом пограничном между жизнью и смертью положении Теркина на том свете, еще не «хладного трупа», но уже и не полноценно живого и горячего, а как бы еле теплого, в ком жизнь едва теплится,- в этом положении «у пограничного столба» есть Теркину иконописный аналог, или, точнее, икона, которую можно посчитать как бы давно заготовленным эпиграфом к фантастической поэме Твардовского. Речь об иконе новгородского письма XV-XVI веков, описанной и истолкованной князем-философом Евгением Трубецким в замечательно-тонком исследовании начала XX века «Два мира в древнерусской иконописи»:
«В нижней части... изображения есть как бы пограничный столб, отделяющий... в иконе десницу от шуйцы,- райскую сторону от адской. К столбу привязана человеческая фигура. Можно гадать, что она изображает... Не зная, что с ним делать и как его рассудить, иконописец так и оставил его прикованным посредине к пограничному столбу. А направо и налево от него души определяются каждая к подобающей ее облику сфере. Влево от столба - геенский пламень мирового пожара. А вправо от него начинается шествие в рай...»
Поэма Твардовского начинается с противоположного - с «сошествия во ад». Однако сразу и подмечено:
Это означает, что герой прибыл на тот свет по недоразумению, еще не будучи «готовым» мертвецом. Человек Твардовского стоит привязанным к пограничному столбу, но делает свой выбор, рвет все путы смерти и возвращается в жизнь:
«Сила жизни», пусть и «бренной, небогатой», позволяет человеку смело глядеть
в лицо Смерти, но все же не избавляет от извечной мечты о бессмертии. Этот
человеческий путь к бессмертию раскрыл всему человечеству Иисус Христос
через свою смерть и воскресение. Смерть неизбежна, но верующий в Христа
спасется. И тогда сбудется слово ветхозаветного пророка: «Смерть, где твое
жало? Ад, где твоя победа?»
На драматическом пути к своей победе над Смертью Василий Теркин был и смел,
и ловок, и вынослив, хотя поручни загробного порожняка рвало из рук, хотя
загробные силы хватались за него мертвой хваткой, глаза закрывались от усталости,
все то шло кругами, от чего кричат во сне, казалось, лютые морозы перемешались
с адской жарой, казалось, будто солдат пробирается дорогой войны, где «мороз
по голой коже», где «глоток воды дороже жизни, может быть, самой». Истощение
сил в борьбе со Смертью было такое, что Теркин был уже не Теркин, а лишь
«дыханье одинокое в груди». И сверх всего - смертная тоска и смертная боль:
Что же говорить о жажде жизни у Теркина, столь отчаянно, неслыханно дерзко
бежавшего оттуда, куда все равно придется вернуться?
Подобные «зовы» кажутся невольными отголосками благоразумных доводов генерал-
покойника, посчитавшего теркинское «Решаю жить!» бессмысленным: стоит ли
дважды проделывать тот же путь?! И это - правда, но правда Смерти, а у Теркина
- своя правда:
Этими словами Вася Теркин, а с ним и его автор, казалось бы, вольно или
невольно включаются в древнюю, как само христианство, богословскую дискуссию
о ничтожестве скоротечной земной жизни человека перед лицом жизни вечной.
Но нет! О богословском ни герой, ни автор и не думали, а думали они, вместе
со всеми своими современниками, о том, что ради «бесконечности любой», ради
любого «светлого будущего», называйся оно хоть бы и «коммунизмом»,- нельзя
губить жизнь человека, коверкать судьбу нескольких поколений великого народа,
нельзя губить Россию. Есть основания предположить, что монолог Теркина (с
конечной мыслью: «День мой вечности дороже, бесконечности любой») - это
сознательное, в традиции пушкинского «Отцы-пустынники...», переложение в
стихи одного из важнейших заветов Господа: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем
дне, ибо завтрашний сам будет о своем: довольно для каждого дня своей заботы»
(Мф., 6, 34). Во всяком случае, мысль поэта явно перекликается с мыслью
Нагорной проповеди.
И в целом правдивая сказка Александра Трифоновича Твардовского о «сошествии
во ад» простого и веселого русского парня прекрасно подтвердила старую христианскую
истину: «Нет ада без надежды».
«Тёркин на том свете» Твардовский
«Тёркин на том свете» анализ произведения — тема, идея, жанр, сюжет, композиция, герои, проблематика и другие вопросы раскрыты в этой статье.
Сатирическая струя, ощутимая в таких главах книги «За далью — даль», как «Литературный разговор» и «Фронт и тыл» (в образе попутчика «с улыбкой мягко-министерской», рьяно доказывавшего, что именно такие, как он сам, вынесли главную тяжесть войны... в тылу), в полной мере проявилась в поэме «Теркин на том свете » (1954—1963).
Использовав известную в мировой литературе фабулу (недаром выведенный в поэме редактор-перестраховщик негодует на то, что ее автор «новым, видите ли, Дантом объявиться захотел»), Твардовский под видом «мира загробного» сатирически изобразил сложившуюся в тогдашней стране политическую обстановку и засилье бюрократизма.
Еще в «Василии Теркине» упоминалась легенда о гибели героя, который успел пошутить:
— Жаль, — сказал, — что до обеда
Я убитый, натощак.
Неизвестно, мол, ребята,
Отправляясь на тот свет,
Как там, что: без аттестата
Признают нас или нет?
Как в воду глядел! В новой поэме с него спрашивают уже не только продовольственный аттестат: как сквозь строй, должен он пройти Учетный стол, Стол проверки, Стол мед-санобработки, и всюду требуют то анкетное «авто-био», то «фотокарточки... в должных экземплярах», то даже сведения «относительно мочи и солдатской крови» («Ну как будто на курорт мне нужна путевка!» —дивится Теркин).
В поэме «с доброй выдумкою рядом правда в целости жива» — правда о зловещей бюрократической машине, существующей в действительности и стремящейся каменной стеной отгородиться от жизни, людей, их нужд. В сказке, как не раз именует автор свою поэму, реальные явления доведены до гротеска: здесь «от мала до велика все... руководят», им «ни к чему земля и небо — дайте стены с потолком». Местный «старожил» объясняет Теркину:
Тут ни пашни, ни покоса,
Ни заводов, ни станков.
Нам бы это все мешало —
Уголь, сталь, зерно, стада...
В своей критике «того света» Твардовский временами достигает чрезвычайной остроты. Тот же теркинский собеседник рассказывает о диковинном «загробном пайке»: «Обозначено в меню, а в натуре нету». — «Вроде, значит, трудодня?» — восклицает герой, замечая очевидную параллель между «сказкой» и тогдашней колхозной явью. Читатель же мог подумать здесь и о других вещах, существовавших только «в меню», на бумаге (например, свобода слова, печати, собраний, «обозначенная» в «сталинской» конституции). Знаменательны и ответ, полученный Теркиным, когда он возмутился было волокитой: «На том свете жалоб нет. Все у нас довольны», и безрезультатное обращение в «гробгазету».
Сам поэт характеризовал свою поэму как «суд народа над бюрократией и аппаратчиной». При первой попытке напечатать ее она была расценена партийным руководством как «пасквиль на советскую действительность», а Твардовский — уволен с поста главного редактора журнала. В доработанном виде «Теркин на том свете» был опубликован только в 1963 г., но с концом «оттепели» уже почти не переиздавался и не упоминался в печати.
Параллельно с “За далью – даль” Твардовский работает над сатирической поэмой-сказкой “Теркин на том свете” (1954-1963), изобразившей “косность, бюрократизм, формализм” нашей жизни. По словам автора, “поэма “Теркин на том свете” не является продолжением “Василия Теркина”, а лишь обращается к образу героя “Книги про бойца” для решения особых задач сатирико-публицистического жанра” (5, 143).
В основу произведения Твардовский положил условно-фантастический сюжет. Герой его поэмы военных лет, живой и не унывающий
Ни при каких обстоятельствах Василий Теркин оказывается теперь в мире мертвых, призрачном царстве теней. Подвергается осмеянию все враждебное человеку, несовместимое с живой жизнью. Вся обстановка фантастических учреждений на “том свете” подчеркивает бездушие, бесчеловечность, лицемерие и фальшь, произрастающие в условиях тоталитарного режима, административно-командной системы.
Вначале, попав в “загробное царство”, очень уж напоминающее нашу земную реальность целым рядом узнаваемых бытовых деталей, Теркин вообще не различает людей. С ним разговаривают, на него смотрят казенные и безликие
Канцелярские, бюрократические “столы” (“Учетный стол”, “Стол Проверки”, “Стол Медсанобработки” и пр.), лишенные даже малейшего признака участия и понимания. И в дальнейшем перед ним вереницей проходят мертвецы – “с виду как бы люди”, под стать которым вся структура “загробного царства”: “Система”, “Сеть”, “Органы” и их производные – “Комитет по делам
Перестройки Вечной”, “Преисподнее бюро”, “Гробгазета” и т. п.
Перед нами возникает целый реестр мнимых, абсурдных, лишенных содержания предметов и явлений: “душ безводный”, “табак без дыма”, “паек загробный” (“Обозначено в меню,
А в натуре нету”). Показательны характеристики:,Кандидат потусторонних
Или доктор прах-наук”, “Надпись: “Пламенный оратор” – /И мочалка изо рта”. Через все это царство мертвых и бездушных солдата ведет “сила жизни”. В герое Твардовского, символизирующем жизненные силы народа, попавшем в столь необычную обстановку и подвергшемся нелегким испытаниям, возобладали присущие ему живые человеческие качества, и он возвращается в этот мир, чтобы бороться за правду.
Сам Твардовский вел непримиримую борьбу с наиболее мрачным, мертвящим наследием сталинщины, с духом слепого подчинения, косности и доведенного до абсурда бюрократизма. И делал это с позиций утверждения жизни, правды, человечности, высокого нравственного идеала. В сочетании фантастического сюжета и реалистически-бытовых деталей в изображении загробного мира реализовался творческий принцип автора: “С доброй выдумкою рядом
Правда в целости жива. “
(3
оценок, среднее: 3.33
из 5)
Сочинения по темам:
- битый в бою Теркин является на тот свет. Там чисто, похоже на метро. Комендант приказывает Теркину оформляться. Учетный стол, стол...
- «Василий Теркин» – замечательная поэма А. Т. Твардовского. С первых дней Великой Отечественной войны поэт находился в рядах Советской армии....
- Поэма состоит из 30 глав, пролог а и эпилог а, условно разделяясь на три части. Каждая глава – небольшая новелла...
- Среди стихов Александра Твардовского очень мало произведений, которые можно было бы отнести к разряду любовной лирики. И в этом нет...
- Поэма “Василий Теркин” написана Твардовским на основе личного опыта автора – участника Великой Отечественной войны. В жанровом отношении это свободное...
- В русской литературе есть такие произведения, которые не только художественно отображают исторически важный момент, повествуют о необычных событиях, рисуют героя...
- В пехотной роте - новый парень, Василий Теркин. Он воюет уже второй раз на своем веку (первая война - финская)....